Метатекст у романах тетралогії
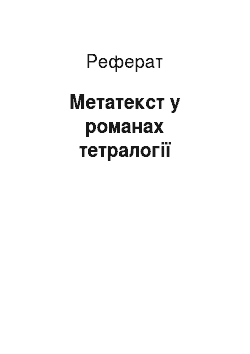
Другой похожий пример содержится в 9-й главе романа, где рассуждение Петра о том, как можно с помощью нескольких намёков и невнятного разговора нарисовать «по-настоящему сильную эротическую сцену» подкрепляется самой эротической сценой, выполненной писателем именно в такой манере. Не менее любопытны и те суждения, которые высказывает о записях Пустоты, от лица которого (пусть и в разных… Читати ще >
Метатекст у романах тетралогії (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Метатекстуальный пласт повествования присутствует во всех частях тетралогии и легко вычленяется уже в самом раннем из рассматриваемых произведений писателя — «Чапаеве и Пустоте» (1996). Роману предпослан сочинённый самим Пелевиным эпиграф, приписанный Чингиз Хану. Эта переадресация позволяет писателю решить сразу несколько задач. Прежде всего, отметим, что именно приписывание авторства высказывания военачальнику огромного войска позволяет воспринимать эти слова буквально, поскольку он действительно мог руководить движением огромных масс людей и, таким образом, даёт Пелевину возможность скрыть от невнимательного читателя содержащийся в них более глубокий смысл. Единственным намёком на него является лишь заглавное «Я», но и оно может быть объяснено тщеславием полководца. Вторая функция эпиграфа заключается в том, чтобы обозначить смысловую систему координат, своего рода «метафизическую географию» романа, подготовив появление в тексте Внутренней Монголии — мистического места «внутри того, кто видит пустоту» [ЧП, С. 292].
Наконец, пожалуй, главная задача предваряющего текст высказывания о «безбрежном живом потоке, поднятом волей и мчащемся в никуда по багровой закатной степи» [ЧП, С. 5] состоит в имплицитном описании мира как пространства собственного ума, «как воли и представления» (выражение А. Шопенгауэра) и постановке ключевого для писателя вопроса о местонахождении субъекта в реальности, являющейся проекцией его собственного сознания. Так Пелевин уже на первой странице романа показывает, что перед нами текст о внутренней жизни, которая ради наглядности изображения представлена как жизнь внешняя, своеобразное странствие героя в глубинах собственного сознания в поисках самого себя.
Подтверждение этому мы находим далее, в приписанном тибетскому ламе Урган Джамбон Тулку Седьмому предисловии, представляющем собой своего рода критическую рецензию на сам текст. Примечательно оно, прежде всего, тем, что в нём ярко проявляются характерное для постмодернистских текстов игровое начало и установка на принципиальную «недооформленность» текста, стремящегося к тому, чтобы быть не «целостным», завершённым произведением, а скорее, открытым в мир самим процессом его создания.
Так, выясняется, что, помимо избранного заглавия текста, имеются три других его варианта. Первый из них делает акцент на личности главного героя и тождествен названию фурмановского романа о Василии Чапаеве. Второй — «Сад расходящихся Петек» — отсылает читателя к борхесовскому тексту и может, кроме того, служить указанием как на сходство между обитателями психиатрической больницы № 17, так и на самих читателей, воспринимающих растиражированный роман. Третий вариант — «Чёрный бублик» — непосредственно указывает на основную идею романа — пустоту от самобытия, которая в данном случае репрезентируется как пустота в центре бублика, а кроме того, заставляет задуматься над смыслом имеющейся в тексте эротической сцены и напоминает о стихотворении Петра про княгиню Мещерскую. Важно отметить также, что даже «итоговый» вариант названия вполне в постмодернистском духе лишён однозначности и сначала прочитывается не как имена двух героев (по модели «Затворник и Шестипалый» или, как названа вставная пьеса внутри романа, «Раскольников и Мармеладов») — учителя и Ученика, а в качестве сопоставления двух разнородных понятий, выражающее идею хаоса мира. (Именно этот смысл и увидел в названии П. Басинский, предложивший свою, пародийную версию подобного именования — «Столыпин и твердь» [Басинский, 1996, С. 4]).
Таким образом, заявленная уже в предисловии относящаяся к метатекстуальному пласту повествования вариативность названия, во-первых, позволяет обратить читательское внимание на ключевые для понимания текста идеи, во-вторых, наглядно реализует постмодернистское положение об относительности, конвенциональном характере любой истины, и в-третьих, обеспечивает пространство для литературной игры.
Помимо вариантов названия, в предисловии писатель сохраняет звучавшее бы слишком претенциозно, будучи поставленным перед текстом, «жанровое определение» романа как «особого взлёта свободной мысли» [ЧП, С. 7], тем самым «спасая» важную идею от грозившего ей удаления, переводя её в разряд шутки. Далее в рецензии в полном соответствии с лотмановским определением метатекста даётся критическая оценка изображаемого в романе. Выясняется, что перед нами тенденциозный «текст», обсуждающий то, что не нуждается ни в каких обсуждениях (осторожный намёк писателя на Абсолют) и созданный не эстетического наслаждения ради, но исключительно «с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни» [ЧП, С. 7]. Именно предисловие сообщает нам об авторской задумке непосредственно воздействовать на ум читателя, равно как и усиливает её вероятность, с горечью констатируя обречённость этого замысла на провал.
Усилению суггестивного воздействия текста способствует и реализуемый в рецензии принцип «опережающей оценки»: тибетский лама специально указывает на возможные чисто литературные недостатки романа, таким образом ретушируя их, а также отмечает возможность охарактеризовать позицию автора как «критический солипсизм», демонстрируя тем самым принципиальные ущербность и неполноту такой оценки. Роль подобных замечаний заключается, на наш взгляд, не только в «усыплении читательской бдительности» и сокрытии корявостей авторского слога, что пытается доказать М. Свердлов, но и в маскировке своих идей от недоброжелательных и порой не слишком внимательных критиков, обеспечении себе игрового пространства для отступления. Именно в этом контексте следует понимать, например, и аналогичную уничижительную оценку героем романа «новым русским» Володиным творчества Бориса Гребенщикова, у которого, по словам предпринимателя, «всюду сплошной буддизм» [ЧП, С. 385].
Имеются в тексте и другие высказывания метатекстуального характера. Так, мифологизированный процесс создания произведения описан в пассаже о том, как Пётр в ответ на вопрос о том, как ему называть Гуру в своих записях (а именно Духовным Наставником является Чапаев для Пустоты), получает от Учителя знаменательный ответ: «Называй меня любым именем. Хоть Чапаевым. Можешь даже написать, что у меня были усы и после этих слов я их расправил» [ЧП, С. 257], вслед за чем в тексте появляется предложение о том, как Чапаев «бережным движением пальцев расправил усы» [ЧП, С. 257].
Другой похожий пример содержится в 9-й главе романа, где рассуждение Петра о том, как можно с помощью нескольких намёков и невнятного разговора нарисовать «по-настоящему сильную эротическую сцену» [ЧП, С. 355] подкрепляется самой эротической сценой, выполненной писателем именно в такой манере. Не менее любопытны и те суждения, которые высказывает о записях Пустоты, от лица которого (пусть и в разных ипостасях) ведётся повествование в романе, сам Чапаев. Так, взволнованное обращение, в котором Пётр (а под его маской сам автор) пытается открыть читателю глаза на свою истинную природу оценивается командиром как «довольно дешёвый ход» [ЧП, С. 334], да и в самом ординарце, по мнению Чапаева, «слишком много места занимает литератор» [ЧП, С. 334]. Подобные оценки, данные одними героями романа другим, придают тексту игровой характер и, соответственно, уменьшают степень авторской ответственности за его содержание. (Именно этим стремлением «отгородиться» от своего творения в связи с нарочитой резкостью некоторых звучащих на его страницах высказываний объясняется заявленный уже в предисловии отказ от авторства).
Та же игра присутствует в завершающей роман «бредовой» хронологии «1923;1925» [ЧП, С. 414] и названии странной местности Кафка-юрт, в очередной раз подчёркивающем кошмарный характер воспринимаемой человеком сансарической реальности.
Характерным примером высказывания, позволяющего обратить внимание на отдельные части текста, является суждение Петра о модернистской постановке «Раскольников и Мармеладов»: происходящий на сцене диалог герой оценивает как «бессмысленный» [ЧП, С. 33], что по принципу противоречия заставляет вчитаться в него внимательнее и обнаружить скрытые в нём важную авторскую идею: именно после критического отзыва Петра в пьесе появляется ехидное замечание Мармеладова о близорукой юности, которая «видит и суть и причину в конечном» [ЧП, С. 33]. Характерно, что уже начало модернистской постановки содержит в себе аллюзию на небольшие стихотворения-«дохи», входящие в состав излагающего учение дзогчен древнего буддийского текста «Царь всетворящий», в которых носители этого учения сначала называли своё имя, а затем выражали пережитый опыт высшего озарения. По этой же схеме построено начало речи Мармеладова:
Я Мармеладов. Сказать по секрету, Мне уже некуда больше идти.
Глубокий смысл этих строк заключается в осторожном намёке героя на то, что человеческий ум безграничен и нигде не пребывает, поскольку пространство существует внутри него, как одна из приписанных им вещам категорий. Знаменательно, что именно это высказывание Мармеладова повторит и вышедший из больницы Пётр Пустота в финале книги [ЧП, С. 401].
Встречаются в романе и другие вставные произведения, представляющие собой отступления от основной сюжетной линии, но, тем не менее, весьма значимые в общей смысловой структуре текста. Прежде всего, это рассказы других пациентов психиатрической больницы. Так, например, история Сердюка помогает писателю выразить свою оценку роли социума в жизни человека. И жутковатая картина, висящая на стене в офисе Кавабаты, и сравнение героя с журавлём, отсылающее к известной песне М. Бернеса об убитых солдатах, и неудавшееся харакири в конце главки служат выражению одной и той же идеи самостоятельно принимаемого на себя человеком социального долга, который затем начинает довлеть над ним и убивает его. Выражается в новелле и не менее важная для писателя идея призрачности воспринимаемого мира: перед лицом смерти герой вдруг осознаёт, что «всё его долгое, полное надежды, тоски и страха человеческое существование было просто мимолётной мыслью, на секунду привлекшей его внимание» [ЧП, С. 245].
Введение
в текст вставных главок также помогает постмодернисту коснуться общественно-политических вопросов и выразить собственный взгляд на то, «как нам обустроить Россию» (выражение А. Солженицына). Так, истории Марии и Сердюка, как уже отмечалось нами выше, служат средством выражения авторского видения перспектив развития страны в случае ориентации её внешней политики на Запад или на Восток соответственно. Особое место по отношению к этой оппозиции занимает история Володина, которую можно рассматривать как пелевинский поиск самобытного национального пути. Вместе с тем, отрыв связанного с ним героя — интеллигентного предпринимателя — от национальных традиций и своеобразие предлагаемой им идеологии, ставящей во главу угла интересы не столько общества в целом, сколько конкретного человека, вполне очевидны.
Стоит подчеркнуть и то, что основное внимание в данной новелле герой уделяет всё же не новой патриотической идее (о пелевинской деконструкции подобных теорий мы уже говорили в первой главе), а восточной версии духовности и критике христианства, для беспощадного разоблачения которого с помощью его сниженного сравнения с тюремной зоной и обсуждения на полубандитском жаргоне эта и понадобилась.
Помогает писателю передать основные идеи романа и относящееся к его метатекстуальному уровню общее композиционное членение книги. Чередование между собой «чапаевских» и «больничных» глав романа соответствует мировому круговороту, ритму смены дня и ночи, а слияние этих двух реальностей в финале знаменует собой освобождение, выход за его пределы.
Важную роль играет метатекст и в романе «Generation «П». Как и «Чапаеву и Пустоте», второй книге тетралогии предпослан эпиграф, который, однако, на сей раз не вымышлен автором, а представляет собой цитату из канадского барда Леонарда Коэна. С её помощью Пелевин обозначает тему романа — «страну и то, что в ней происходит» [GП, С. 9] и подчёркивает принципиальную аполитичность своей позиции («я не правый и не левый» [GП, С. 9]).
Посвящение «Памяти среднего класса», который на текущий момент в России ещё даже не сложился, позволяет писателю оценить всё изображаемое в контексте огромной временной перспективы, взглянув на события из далёкого будущего. Наиболее яркими подтверждениями этому могут служить эсхатологическое название произведения, довольно адекватно переводимое на русский язык как «Поколение Конца», и датировка являющегося ключом к пониманию произведения статьи Че Гевары — «вечность, лето» [GП, С. 133].
Прежде всего, напомним, что, как отмечает А. Долин, название пелевинского текста почти точно повторяет собой название романа Дугласа Коупленда «Generation X» [Долин], однако сходство данных текстов на этом и заканчивается, ибо сюжет и проблематика этих двух произведений не имеют между собой ничего общего. Знаменательно, однако, что сам принцип цитирования как такового, без отсылки к смысловой стороне служащего материалом для аллюзии текста, является, на наш взгляд, характерной чертой всей постмодернистской литературы. Следует обратить внимание и на то, что существует несколько вариантов прочтения названия книги, поскольку загадочную букву «П» можно интерпретировать по-разному, что также типично для постмодернизма вообще и, как показывает аналогичная вариативность именования первого романа тетралогии, для текстов Пелевина в частности.
Согласно первому, наиболее простому варианту истолкования названия второй книги «четверокнижия», который представлен на первых страницах романа, буква «П» обозначает пепси-колу, символизирующую собой ориентацию нового поколения на либерально-демократические ценности Запада. (Связь между этим напитком и взглядами подрастающей постсоветской молодёжи обозначена в известном рекламном слогане: «Новое поколение выбирает «Пепси»). Вторая интерпретация названия складывается из рассуждений Татарского о public relations — отношениях людей друг с другом [GП, С. 149], в котором взаимодействие заказчиков и создателей рекламы с потребителями описывается криэйтором как «замкнутый круг»: «Мы впариваем им это (разные товары — А. Г.) с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам» [GП, С. 150]. Таким образом, буква «пи», обозначающая в математике число, необходимое для вычисления длины окружности и площади круга, оказывается указанием на общество, в котором правит «пиар», в том числе и «чёрный».
Характерно, что именно чёрный цвет приобретает в конце «Священной книги оборотня» Саша Серый, когда превращается из волка в собаку с пятью лапами — пса П… здеца, с которым связан третий, пожалуй, наиболее значимый смысл названия романа «Generation «П». Ясным указанием на него являются слова Вавилена Татарского Сейфуль-Фарсейкину: «…Может быть, все мы вместе и есть эта собачка с пятью лапами? И теперь мы, так сказать, наступаем» [GП, С. 330].
Тексту романа предшествует небольшое примечание, в котором не последнее место занимает фраза «Названия товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты» [GП, С. 7], отождествляющая политиков с товарами и, кроме того, косвенно указывающая на отсутствие реального существования чего бы то ни было. Особого внимания заслуживает также предупреждение о том, что «мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения» [GП, С. 7], объясняющее множественность представленных в романе оценок происходящего, образующих своего рода ризоматическую структуру.
Носитель одной из наиболее существенных точек зрения обозначен в романе как вызванный его героем — рекламным агентом Вавиленом Татарским — с помощью волшебной планшетки дух Че Гевары, иногда достаточно чётко отождествимый со скрывающимся под безликим «мы» повествователем. Приписанный ему текст с замысловатым названием «Идентиализм как высшая стадия дуализма» посвящён разоблачению пустоты личности современного человека — identity — и представляет собой что-то вроде современного переложения основных идей буддийской «Сутры Сердца Праджняпарамиты», намёком на которую, помимо самого содержания, служит упоминание о «собравшихся» [GП, С. 113] «соратниках» [GП, С. 114] (примечательно, что точно так же — «соратницами» — называет своих коллег, А Хули [СКО, С. 45]), отсылающее к представлению о буддах и бодхисаттвах, собирающихся для встречи с мудростью. П. Левин характеризует её как «внутритекстовый комментарий» [Левин] к роману. О важности статьи Че Гевары, содержащей в себе разворачиваемую и конкретизируемую далее в тексте романа базовую авторскую концепцию, свидетельствует то, что производное от термина identity понятие «и-ден-тич-ность» употребляет в своей речи «новый русский» Вовчик Малой. Знаменательно, что упоминается identity и в романе «Числа» [Ч, С. 81].
Примечательно, однако, что позиция Че подвергается в романе критике со стороны другого значимого героя — уже встречавшегося читателю в «Чапаеве и Пустоте» Ургана Джамбона Тулку Седьмого, который осуждает героя за то, что тот «не вполне буддист и поэтому для буддиста не вполне авторитет» [GП, С. 181].
Важно отметить вместе с тем, что никакого существенного опровержения идей, приписанных Че Геваре, в тексте не представлено, напротив, в других главах романа мы находим никак композиционно не выделенные фрагменты «чужой речи», развивающие основные положения статьи об идентиализме. Так, в начале главы «Институт пчеловодства» [GП, С. 198] говорится о действии орального, в начале главы «Исламский фактор» [GП, С. 246] - о работе анального, а в середине главки «Критические дни» [GП, С. 303] - о механизме вытесняющего вау-факторов в уме орануса.
Встречаются в романе и другие метатекстуальные указатели, организующие структурное построение текста — «три загадки Иштар», которые якобы должен был разгадать житель Вавилона для того, чтобы подняться на зиккурат и стать мужем Иштар [GП, С. 62−63]. Ими оказываются найденные Татарским по дороге к вершине башни недостроенной электростанции пачка сигарет «Парламент», напоминающая об истории с созданием рекламного ролика для этого продукта, монетка с портретом Че Гевары, указывающая на его статью, и точилка для карандашей в форме телевизора, отсылающая к рассказу о создаваемых с помощью телевидения виртуальных политиках.
Обращает на себя внимание и та интересная особенность, что в плане авторской оценки изображаемого роман «Generation «П» демонстрирует больший плюрализм мнений и, соответственно, больше соответствует «канонам» постмодернизма (если в постмодернизме можно говорить о канонах), чем, например, «Чапаев и Пустота» или «Священная книга оборотня». Если в данных текстах чётко проводятся буддийские идеи, а христианство подвергается резкой критике, то здесь главной мишенью автора являются процессы экспансии экономики в человеческое сознание, деконструкция которых реализуется не только с буддийских, но и с христианских (слова Гиреева о Боге во сне Татарского) и исламских («Исламский фактор») позиций.
Наибольший объём метатекстуальной информации сосредоточен в последней главе романа «Туборг Мэн», представляющей собой своего рода краткий конспект всего текста, перечень его основных идей. Так, здесь возникают «небрежно прочерченный контур молочной железы» [GП, С. 333] - эмблема фирмы «силикон-графикс», символизирующей тотальный обман населения, осуществляемый СМИ, упоминается слёт «радикальных фундаменталистов всех мировых конфессий» [GП, С. 334], наконец, дана отсылка к буддийской теории перерождений и демонстрируется природа страдания, которая им присуща (эта мысль содержится в заставляющем не очень-то чувствительного «живого бога» плакать рекламном клипе для пива «Туборг» и упоминании о слухах про идущих один за другим тридцати Татарских).
Таким образом, в «Generation «П» метатекст помогает писателю не только чётче структурировать произведение и выразить в нём постмодернистское понимание многогранной сложности мира, но и подвести итог сказанному, яснее обозначить свои идеи.
Сравнительно невелик, по сравнению с другими романами, метатекстуальный пласт «Чисел». Как явствует уже из названия, связан он главным образом с описанием сложных нумерологических построений банкира Стёпы Михайлова, наглядно выражаемых в хаотическом именовании главок, обозначаемых разными числами, знаковыми из которых являются покровительствующее главному герою число «34» и враждебное ему «43».
Роман снабжён эпиграфом из Д. Хармса — автора, подчёркивающего в своём творчестве созвучные постмодернистскому мировосприятию абсурдность и хаотичность мироздания. Разрушение причинно-следственных связей в мире подчёркивает и посвящение третьего романа тетралогии двум, на первый взгляд, несопоставимым фигурам — «Зигмунду Фрейду и Феликсу Дзержинскому» [Ч, С. 8]. Вместе с тем эту адресацию можно с таким же успехом рассматривать и как указание на имеющуюся в творчестве писателя неизбывную связь между террором и психоанализом, доказательством существования которой может служить превращение чекистского застенка в психиатрическую лечебницу в романе «Чапаев и Пустота». Основание для подобного сопоставления можно найти в постмодернистской теории о том, что любое знание по определению является продуктом властных амбиций своего носителя, и в этом плане психологические теории мало чем отличаются от политических.
Знаменательно, что умопомешательство в романе «Числа» носит тотальный характер: в головах других героев романа (подруги Стёпы Мюс, его конкурента Жоры Сракандаева) царит тот же пифагорейский хаос, и единственная адекватная оценка его выражена лишь в указании прорицательницы, к которому Стёпа, однако, остаётся глух. Возможно, именно это, наряду с вынужденной гомосексуальной связью, мерзость которой и степень вырождения современной культуры подчёркивает вставленное в текст романа краткое изложение образчика «гей-драматургии» — пьесы «Доктор Гулаго», и послужило причиной печального конца книги.
Здесь, впрочем, стоит особо оговорить, что финал романа неоднозначен, и о его трагичности можно говорить лишь с одной из точек зрения. На наш взгляд, это объясняется не столько постмодернистской установкой на «мерцание смысла», сколько своеобразием писательской стратегии Пелевина, пытающегося найти компромисс между ожиданиями массового читателя с одной стороны и стремлением выразить в своих книгах оригинальные авторские идеи — с другой. Внешне конец книги вполне укладывается в рамки голливудского happy end`а: герой отправляется за границу с солидной суммой денег, которой ему хватит на то, чтобы безбедно прожить до самой смерти. Однако для более проницательных читателей автор закладывает в произведение и другой, гораздо более глубокий и философский смысл, указывая на то, что после смерти героя ожидает новое рождение и новые страдания сансары.
Помимо «Доктора Гулаго», в романе присутствует и другая вставная политическая главка — проект «Зюзя и Чубайка», своим названием отсылающий к написанному Ф. Решетниковым безрадостному рассказу о русской жизни «Подлиповцы», где имеются два аналогичных персонажа — Пила и Сысойко. Роль этой главки в тексте сводится, помимо собственно литературного выражения убийственной авторской оценки современной российской жизни, к увеличению (в соответствии с основными установками массовой литературы) коммерческого эффекта книги, связанного с повышением уровня её продаж за счёт пародийного упоминания в ней популярных политиков.
Гораздо более обширен метатекстуальный пласт заключительного текста «четверокнижия». Как и первый роман тетралогии, «Священная книга оборотня» снабжена предисловием, в котором представляется писателем как рукопись, попавшая в наш мир странным путём. Однако приписан этот «Комментарий эксперта» уже не тибетскому ламе, а майору милиции, двум литературоведам и телеведущему. Так уже на первых страницах книги, изображая официальное отношение к ней, Пелевин показывает противоречия между обществом и свободной личностью, самостоятельные духовные поиски которой рассматриваются компетентными органами как сомнительные, и даже обретение ею конечной духовной реализации предстаёт с точки зрения социума как странное происшествие, по которому едва ли не стоит возбудить уголовное дело.
Знаменательно, что кандидаты филологических наук и телеведущий наделены «говорящими» именами, выражающими авторское отношение к их обладателям. Так, фамилия Кошкодавленко явно происходит из малосимпатичного словосочетания «давить кошек» и, помимо аллюзии на известный эпизод из фильма по повести М. Булгакова «Собачье сердце» — ассоциации, естественной для именования литературоведа, несёт в себе явно негативные коннотации. Имя другого учёного Майя отсылает ко введённой в европейский культурный обиход с лёгкого пера А. Шопенгауэра восточной богине иллюзии, что подтверждает и фамилия персонажа — Марачарская, этимологически восходящая к чарам, наваждению Мары, т. е. буддийского дьявола.
Менее отрицательна авторская оценка ведущего программы «Караоке о Главном», наделённого балтийским именем Пелдис (сравни имя реального шоу-мэна Валдис Пельш) и выражающей профессиональную установку на обаятельность фамилией Шарм. Само название передачи, которую он ведёт, впрочем, весьма показательно: караоке как пение чужих песен по подсказке телевизора вполне можно рассматривать как знаковое явление, своего рода символ манипулирования сознанием зрителя.
Общим для упомянутых четырёх экспертов является то, что все они выступают в глазах писателя как представители государственной власти в разных её ипостасях. Но если включённость во властную вертикаль майора милиции очевидна, то постановка в неё трёх других персонажей требует особого комментария. Несмотря на то, что они не носят погон и не оказывают прямого силового воздействия на общество, эти герои наделены способностью воздействовать на умы людей, заставляя их думать в нужном для государственной машины направлении. Но поскольку именно это незаметное влияние оказывается наиболее эффективным для неё, самые агрессивные фамилии получают у писателя именно литературоведы, а не милиционер.
Таким образом, мнение «экспертов» позиционируется постмодернистом как заведомо предвзятое, обусловленное их положением в государственной системе. Неудивительно, что оценка ими рассматриваемому тексту, написанному с совершенно противоположных позиций, дана самая разгромная. Если в «Чапаеве и Пустоте» предисловие приписано тибетскому ламе — лицу, которому автор симпатизирует, и в его рецензии «подделкой» объявляется идеологизированный продукт социального заказа — роман Д. Фурманова «Чапаев», то во вступлении к «Священной книге оборотня» право голоса предоставлено персонажам, вызывающим у писателя неприязнь, поэтому «неумелой литературной подделкой» [СКО, С. 3] в их «Комментарии» назван близкий своему создателю текст о духовных поисках и прозрении лисицы А.
Любопытно отметить, что позиция «экспертов» точно отражает реальное отношение определённой части литературной критики не только к рассматриваемому роману, но и ко всему творчеству Пелевина. Так, по их мнению, представленный текст «не заслуживает серьёзного литературоведческого или критического анализа» [СКО, С. 5]. Неоднократно звучали в адрес писателя упрёки в «дурном слоге» (А. Архангельский, А. Слаповский, М. Свердлов), на «инфантилизм» постмодерниста указывал П. Басинский. Примечательно, что интертекстуальный характер собственных произведений, наличие в них «густой сети заимствований, подражаний, перепевов и аллюзий» [СКО, С. 5] и связанная с этим проблема аутентичности вполне сознаются самим Пелевиным.
Однако, пожалуй, самым интересным представляется заявление «экспертов» о «псевдовосточной метафизике, шапочным знакомством с которой автору не терпится похвалиться» [СКО, С. 5]. На наш взгляд, повторение этого обвинения писателем носит иронический характер и может служить косвенным свидетельством в пользу того, что степень знакомства анализируемого автора с религиозно-философскими учениями Востока значительно глубже, чем это представляется некоторым критикам. Имеется в комментарии и ещё одна «шпилька» в адрес литературоведов, содержащая обвинение в некомпетентности уже по отношению к ним самим. Таково упоминание о том, что, расшифровывая вышитую на майке надпись «скuf», автор целой монографии М. Лейбман воспринял это слово как анаграмму английского ругательства «fuck», ибо стихотворение А. Блока «Скифы» «судя по всему, не читал» [СКО, С. 4], поскольку очевидную цитату из него на спине той же футболки («да, азиаты мы») распознать оказался не в состоянии. Сама цитата, кстати сказать, помещена писателем на майку своей восточной героини далеко не случайно и служит способом выражения его позиции в постоянном споре русской интеллигенции о геополитическом расположении России.
Тонкая ирония звучит в словах о «серьёзных и состоявшихся в жизни людях» [СКО, С. 5], ибо собственное представление Пелевина о том, что значит состояться в жизни, кардинально отличается от мнения по этому поводу «экспертов». Использованный ими ярлык «неудачник», который они стремятся навесить на автора «текстового файла», явно отсылает читателя к «Generation «П» и статье Че Гевары, где при описании механизма мышления клетки экономического организма («орануса») говорится о выдаваемом им при соответствующих обстоятельствах флажке «loser» («неудачник»). Наконец, заключительная, откровенно издевательская фраза «Комментария» о «радостной песне» может быть с одинаковым успехом прочитана и как свидетельство тупости милиционера, и как самореклама ведущего.
Таким образом, «Комментарий эксперта» позволяет Пелевину заранее предоставить читателям возможные отрицательные отзывы о романе, а также свести счёты с литературной критикой, показав предвзятость и некомпетентность её авторов.
Вместе с тем предисловие, написанное не лисой, а посторонними людьми, выполняет ещё и важную сюжетообразующую функцию. С его помощью писатель делает последние штрихи к финалу романа, который остался за кадром повествования, А Хули, ибо поведать о том, как выглядело познание собственной природы со стороны и что было после прыжка с трамплина, лиса в своих записках не могла: они были закончены ещё до финального путешествия в Битцевский парк.
Тот же «Комментарий» даёт ключ к идее романа, позволяя соотнести прозрение лисы, А (кстати, имя её оказывается в данном контексте весьма значимым: в тибетском буддизме «А» — священный звук, символизирующий трансцендентную мудрость — пустоту — изначальное состояние человека) с реализацией радужного тела (тиб. гью-лу), которая достигается посредством практики учения дзогчен. Внешними признаками этой реализации являются уменьшение и исчезновение обычного тела и появление радуг, о которых говорится в предисловии.
Знаменательно, что в виде «радужного потока» изображает писатель и символ нирваны — Условную Реку Абсолютной Любви (Урал) — в романе «Чапаев и Пустота». Но если в первой книге тетралогии просто говорится о том, что поток светился «всеми цветами радуги» [ЧП, С. 381], то в заключительном тексте упоминаются «пятицветные» [СКО, С. 3] радуги (по числу элементов бытия в древнеиндийской системе мироздания), а в некоторых из них по шарообразности и просвечиванию цветов друг сквозь друга просвещённый читатель может узнать так называемые «тигле» — дзогченовкие символы очищенных воды, огня, земли, воздуха и пространства. Любопытно также, что данный символ возникает и в романе «Generation «П», где на майке Гиреева оказывается изображена «большая буква «А» в центре радужного круга» [GП, С. 297], а кроме того, о дзогчене напоминает имя сына этого героя — «Намхай», отсылающее к современному держателю данного учения Намкаю Норбу Ринпоче.
Космический масштаб придаёт повествованию и первый из двух эпиграфов, предпосланных тексту:
В чистом безветрии звёздных пространств Много у Господа светлых убранств.
Несмотря на то, что «неизвестный источник», из которого этот эпиграф, если верить автору, взят, восходит, очевидно, к Евангелию и происходящему из него расхожему выражению «У Бога обителей много», писателя в нём интересует не столько собственно христианский смысл (ибо представление о Боге последовательно опровергается им на протяжении всего творческого пути), сколько идея безграничности и таинственности мира. Стоит заметить также, что возникающие в двустишии «звёздные пространства» сразу же напоминают читателю о только что завершившемся «Комментарии», где сказано о том, что трава вокруг трамплина, с которого, А Хули сделала свой прыжок в бездонное, выгорела в форме «правильной пятиконечной звезды» [СКО, С. 4]. Значимо, что в самом тексте перевёрнутая пятиконечная звезда упоминается как символический знак «сверхоборотня», своеобразное «лисье распятие», символизирующее «искупление лисьих грехов» [СКО, С. 302].
Таким образом, это не только указание на «звёздные пространства» — те непостижимые сферы, куда ушла лиса, но и ещё одно доказательство её реализации. Характерно, что подобную нагрузку получает звезда у Пелевина и в романе «Чапаев и Пустота», где командир награждает осознавшего пустоту Петра «орденом октябрьской звезды» с собственной груди [ЧП, С. 371]. Объяснение происхождения этого символа даёт в упомянутом тексте Барон фон Юнгерн: по его легенде, Будда Шакьямуни достиг просветления в октябре, когда «поднял взгляд на небо и увидел в нём яркую звезду» [ЧП, С. 271].
Второй эпиграф к роману, представляющий собой цитату из стихотворения, сочинённого героем романа В. Набокова «Лолита» Гумбертом Гумбертом, устанавливает интертекстуальную связь с этим произведением и способствует созданию объёмного образа главной героини — лисицы. Как и набоковскую Долорес Гейз, А Хули можно назвать «нимфеткой». Во-первых, она похожа на четырнадцати-семнадцатилетнюю («ближе к четырнадцати» [СКО, С. 10]) девушку внешне, то есть почти попадает в обозначенные поэтом возрастные границы «9−14» [Набоков, С. 96]. Во-вторых, она даже в большей степени, чем набоковская героиня, обладает не человеческой, а именно демонической, «нимфической» сущностью. Наконец, как и Лолита, А Хули вызывает у мужчин «сильные и противоречивые чувства» [СКО, С. 10]. Знаменательно также, что ставшее источником для эпиграфа стихотворение набоковского героя цитируется в тексте ещё раз [С. 62−63], а помимо сопоставления, А Хули с Лолитой, тем более интересным, что пелевинской героине столько же лет, сколько набоковской — дней, автор ещё и проводит параллель между лисой и Гумбертом Гумбертом, ибо их обоих «гложет тоска по утраченной красоте и смыслу» [СКО, С. 61].
Показательно, что производное от набоковского понятия слово «нимфета» возникает и в третьем романе тетралогии — «Числа», где, кстати, говорится о том, что названная так возлюбленная главного героя тоже не вполне попадала в установленные (правда, на сей раз уже Стёпой, а не автором «Лолиты») возрастные барьеры: «Ей было двадцать семь лет, что выходило за границы обозначенной Стёпой возрастной зоны от девятнадцати до двадцати пяти, в которой Стёпа подбирал своих нимфет» [Ч, С. 64]. Встречается в романе и точное повторение набоковского термина: в другой главе сказано, что в «коктеле свойств» Мюс было «что-то от запретной прелести нимфеток» [Ч, С. 77].
Имеются в «Священной книге оборотня» и метатекстуальные высказывания о создаваемом тексте. По большей части они реализуют всё тот же приём «опережающей оценки». Так, лиса сама отмечает и объясняет своеобразие проявившегося в тексте стремления его автора разбивать всё на пункты и подпункты [СКО, С.46], даёт оценку своему объявлению («взыскательный критик назвал бы его компиляцией» [СКО, С. 49]), обосновывает необходимость рассказа о Павле Ивановиче [СКО, С. 54], отмечает, что в своём письме о жизни в России сестре Е «сгустила краски» [СКО, С. 105].
Знаменательно, что присутствует в тексте и вставная главка — исследование лорда Крикета о чакрах, с помощью которого писатель даёт «экстрасенсорное» объяснение происхождения сверхоборотня. (Здесь важно отметить, что глубина этого откровения подвергнута в романе сомнению: сама героиня затем говорит о нём: «Лорд Крикет только звон слышал. И то недолго» [СКО, С. 301]).
Как и во втором романе тетралогии, подвести итог сказанному в «Священной книге оборотня» позволяет появляющееся в её конце резюме, в данном случае — отрывок из стихотворения, сочинённого лисой, имеющий метатекстуальный характер и являющийся прямым обращением к читателю:
Не будь бескрылой мухой с Крайней Туле, Не бойся ночи, скрывшей всё вокруг.
В ней рыщут двое — я, лиса, А Хули, И пёс П… здец, таинственный мой друг…
Первая строчка его отсылает читателя к описанному лисицей, А в письме своей сестре «мрачному северному развлечению» [СКО, С. 103], во время которого муху, оборвав ей крылья, сажают на конец крайней плоти. Важно отметить, что игра эта, по мнению, А Хули, представляет собой «медитацию над безысходностью существования, одиночеством и смертью» [СКО, С. 103]. Примечательно также, что сравнение читателя с мухой впервые используется Пелевиным ещё в «Жизни насекомых», где мотылёк Дима, размышляя о том, что вызывает жалость у духовных мертвецов, произносит знаменательную фразу: «Если мертвецу показать муху на липучке, то его вырвет. А если показать ему эту же муху на липучке под музыку, да ещё заставить на секунду почувствовать, что эта муха — он сам, то он немедленно заплачет от сострадания к собственному трупу» [ЖН, С. 66].
Таким образом, вводя в текст романа отрывок стихотворения, автор вновь отождествляет читателя с мухой, призывая его не полагаться на судьбу, не быть безвольной игрушкой в руках неведомых, но далеко не дружественных сил и не ждать от них того момента, когда, возможно, выяснится, что разновидность игры, в которую он оказался вовлечён, называется «Китеж духа» [СКО, С. 103−104]. Примечательно также, что третья и четвёртая строки отрывка отсылают читателя и к роману «Числа», где банкир Стёпа после встречи с агностиком задумывается о том, «какие жуткие люди рыщут в потёмках за границей обеспеченного мира» [Ч, С. 164]. Последняя фраза является, конечно, образцом неподражаемой пелевинской иронии, зачастую снимающей серьёзность затрагиваемых постмодернистом проблем и требующей отдельного исследования.