Восьма.
Творчий процес: художня обдарованість, натхнення та шедеври
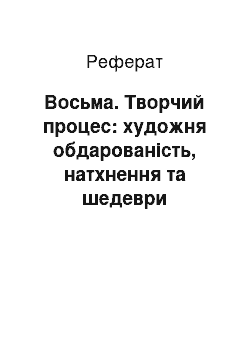
Как видим, этот пункт о заимствовании дискуссионен. Однако в пользу Гете действует закон литературного цитирования, творческих перекличек, диалогов и странных сближений. Убеждает в правоте великого Гете и роман «Улисс» Джеймса Джойса, о котором ирландский писатель говорил, что исследователи «романа века» до скончания дней своих не смогут разгадать тайну текста и его систему цитирования. Впрочем… Читати ще >
Восьма. Творчий процес: художня обдарованість, натхнення та шедеври (реферат, курсова, диплом, контрольна)
Гений, талант, заурядность, эпигон, графоман, плагиатор, шедевры, «женская литература» и «женское литературоведение».
Литературоведение, исследуя тайну художественной одаренности писателя, выделяет из множества творческих личностей классиков (писателей на все времена), предпринимает попытку выстроить поясняющую типологию. В 1880 г. Л. Н. Толстой говорил: «По моей градации идут сначала дурные поэты. За ними посредственные, недурные, хорошие. А затем — бездна, а за ней — «истинные поэты».
ГЕНИЙ
Гений (лат. — в древнеримской мифологии дух — покровитель, бывает и злой дух) — высшая степень творческой одаренности (Словарь иностранных слов. — М.: РЯ, 1988. — С. 121). «Ceni — hochbegabter Mensch mit owssergewohuk, schopfer. Produktivitat» (Bilexikon A bis Z in Einem Band). — Leipzig, 1981. — S. 325″.
Учение Дюбо о гениальной личности. Термин «гений» и его смысловое значение широко использовали немецкие теоретики романтизма, однако эта категория становится предметом пристального внимания уже в XVIII веке. Французский просветитель Жан — Батист Дюбо (1670 — 1742) посвящает этой проблеме главу «О гениальности вообще» в книге «Критические размышления о поэзии и живописи» (М.: Искусство, 1976. — С. 277).
Гений — дар природы. Дюбо считает, что гениальность является врожденным качеством, которое тесно связано с творческой практикой: «Мы называем гениальностью способность, полученную человеком от природы, благодаря которой он легко делает то, что другие делают плохо, даже прилагая большие усилия». Гениальная личность идеальна, возвышена, отличается «благородными сердечными чувствами», обладает «дальновидностью» и умением оценить собственный интеллектуальный потенциал.
Гений и его учитель. Французский ученый приходит к выводу, что гений не нуждается в наставниках, подтверждая свою мысль тем, что практически никто из сверходаренных людей не помнит своих учителей, их имена не держатся в памяти.
Целенаправленность гениальной личности. Гения невозможно смутить неудачами, он «не бывает обескуражен тем, что его первые побуждения остаются безрезультатными; он упорствует, торопит, понукает и, наконец, добивается своего, несмотря на рассеянность, его никто не принуждает к умственной деятельности».
Тайна рождения гения, его детство и отрочество. Здесь необъяснимым образом соединяются природа и благоприятные семейные условия. Окружающие обстоятельства напоминают тест для пловца, где «слабый потонет, а сильный выберется на берег». Внутренний механизм с детских лет охраняет гения от рутинного физического труда, заставляет искать и выбирать свою дорогу, даже если его родители не обеспечены. Чутье подсказывает, что он не такой, как все, и в чем его призвание. Подобно папе римскому Сиксту V и многим другим одаренным людям, он покидает отчий дом и отправляется в большой город, где можно реализовать свою гениальность.
Творческий возраст гения и частотность появления их на свет. Обучение и образовательный процесс у гениев заканчивается к 25 годам. Практически к 20-ти годам он занимает свое место в области знаний. «Гений не может погибнуть, пока не реализует свой дар» (с. 294), иначе это был не гений. Эта мысль Дюбо будет «присваиваться» писателями XIX века, например, автором «Преступления и наказания».
Суждения Д. Маццини о гениальности. Страх современников перед глубокими знаниями гения. Итальянский философ Джузеппе Маццини (1805 — 1872), рассматривая эти сложные вопросы, обращается к трагедии Гете «Фауст» и «малым произведениям» Данте. Он считает, что Фауст является «одиноким гением, символом разума во всей его мощи, но без определенной и постоянной цели». Исторический Фауст (род. ок. 1480 г.), в отличие от литературного, преследовался работниками культуры, которых пугали его энциклопедические знания в области астрологии, естествознания, медицины и алхимии. Ученого обвиняли в ереси и магии (см.: Гартман Х. Образ Фауста. Предание о Фаусте. Произведения о Фаусте. — Волк и Вiссен, 1979. — 223 с.).
Исследуя «Малые произведения» Данте, Д. Маццини говорит о таинстве гения и его отчужденности от окружающих: «Гений устрашал и настораживал нас как нечто чуждое и деспотически возвысившееся над нами, и в зависимости от наших добрых или злых, возвышенных или низких наклонностей мы либо рабски преклонялись перед ним, либо кричали ему анафему и варварские оскорбления». Гений оторван от среды, от своей страны и эпохи (Маццини Д. Эстетика и критика. — М.: Искусство, 1976. — С. 93, 403).
Концепция Гегеля о гениальности. Германский философ в своей «Эстетике» особо выделил понятия «гений — гениальность», указывая на их характерные признаки.
Зрелый возраст гения. Феноменальные способности проявляются в ранней юности, как это наблюдалось у Моцарта и у Гете, «однако лишь в более позднем возрасте, часто в старости, он создает совершенные, подлинно зрелые художественные произведения» (с. 294).
Основные показатели гениальности: врожденность и национальный фактор. «Гений есть всеобщая способность к созданию подлинных художественных произведений, равно как и энергия, благодаря которой он развивает эту способность». Гений отличается «врожденными» свойствами. Национальный элемент также составляет важный признак даровитости представителя конкретного этноса. Так, древние греки и римляне отличались даром эпического мышления, что отразилось на эпосе и скульптуре. Итальянцы проявляют свое умение в музыке, пении и живописи. В условиях севера и холода музыка и опера не смогли ярко проявиться у скандинавов (с. 295).
Легкость творческого труда. Гений не испытывает проблем при создании определенных видов искусств. Парадокс состоит в том, что он «меньше знаком с тяжелым трудом в приобретении необходимых для творчества умений и навыков» (с. 296). Отметим, исключением являются скульптор и живописец. Тут без физического труда не обойдешься.
Роль труда в совершенствовании гениальности. Искусство, как и другая сфера человеческой деятельности, по мнению Гегеля, требует долгой и настойчивой работы. Виртуозность и совершенство произведения достигается постоянными упражнениями. Уместно напомнить дневниковую запись Т. Г. Шевченко от 14 июня 1857 г.: «Как инструмент виртуозу, как кисть живописцу, так литератору необходимо ежедневное упражнение пера. Так делают и гениальные писатели, это их призвание» (Шевченко Т. Собрание сочинений. В пяти тт. — М.: ГИХЛ, т. 5. — С. 17).
Фантазия и вдохновение. Каждый гений наделен богатым воображением, он имеет свою музу, которая побуждает его к творчеству. Так, для Шекспира были «сказания, старинные баллады, новеллы, хроники», они словно бы «просились» сами придать совершенную форму. «Следовательно, повод к творчеству может явиться совершенно извне», материал ищет и находит гения, и «тогда вдохновение гения придет само собой». Творец полностью поглощен своей работой, и не успокоится, пока не придаст художественной форме «законченный и отчеканенный» вид (с. 299). Гений мыслит категориями бесконечности.
Учение М. Арнаудова о гениальности. Болгарский литературовед М. Арнаудов предлагает оптимистические формулы и рекомендации, позволяющие создать условия для инкубирования личностей сверходаренных. В книге «Психология литературного творчества» (М.: Прогресс, 1970), раздел «Гений и человечество», М. Арнаудов ставит следующие вопросы: личность и среда, гений для одной эпохи и на последующие времена, невроз и вырождение, наследственность, раса и культура.
Гений и среда; гениальные этносы. М. Арнаудов критически оценивает работы тех ученых, которые считали, что появление необычных личностей своими «качествами духа» и «случайными совпадениями» нарушают закономерный процесс развития культуры, необычных людей называли «случайными гостями своей страны, не имеющих опоры в прошлом и настоящем». Например, Гегель, на которого ссылается М. Арнаудов, и скрыто полемизирует с ним, утверждал, что гении обязаны не миру, а внутреннему духу, «который еще находится под землей и стучится во внешний мир, как в скорлупу» (с. 15). Однако среда, по мнению М. Арнаудова, первична, и ее «истина» противоречит духу, поэтому окружающие обстоятельства способствуют рождению и формированию гения.
Гений — не случайность, а строгая историко — социальная закономерность. М. Арнаудов эксплуатирует мысль швейцарского естествоиспытателя XIX века Альфонса де Декандолля о том, что одаренная личность не может появиться на земном шаре случайно и в какую угодно эпоху, а «только в странах и обществах, где население проявляло на протяжении веков сознательный интерес к духовным ценностям, освобождаясь от грубого физического труда, от простой ручной работы». Мы бы добавили: и где среда в своем социальном развитии испытывала острую потребность в них. «Возможность выдвижения личностей с большим запасом духовных сил, с гениальным прозрением подчинена строгой историко — социальной закономерности» (с. 17). Такие личности не могут заявить о себе в первобытных племенах и в эпохи низкой культуры или неразвитого национального и социального сознания, так как ферменты для идейного и творческого подъема, навеянные случаем, не нашли бы там благоприятной почвы.
Природное дарование. Неограниченные природные способности личности приводят ее к «вершинам оригинальных открытий» (с. 17). Свое суждение автор подтверждает ссылкой на И. Канта о том, что «никакой Гомер или Виланд не могут показать, как появляются и соединяются в их головах фантазии и богатые мысли». Однако великие писатели оставили сведения о психологии и технике своего творчества (Гете, Бальзак, Флобер).
Гении на одну эпоху и гении на все времена. Гении, творения которых распространяются только на одну эпоху «не сохраняют особого значения для последующих поколений, хотя они живо волновали современников» (с. 19). Гении на все времена оказывают и будут проявлять влияние на протяжении тысячелетий, подобно Гомеру, «Фидию или Рафаэлю, Моцарту или Лютеру» (с. 21).
Роль наследственности в становлении гения. Практически все исследователи этой проблемы единодушно отвергают фактор наследственности. Болгарский литературовед, напротив, настаивает на ее, наследственности, положительной роли. Известные семьи накапливают творческую энергию (с. 25), передавая «голос крови» ее потомкам. В качестве примера приводится семья (род) Себастьяна Баха. «На семейный праздник в 1750 г. собирается до 128 членов семейства; 57 из них были музыкантами, а 29 — даже мастерами» (с. 26). Здесь можно не согласиться с М. Арнаудовым, поскольку речь идет о цеховом, ремесленническом виде искусства, а для литературного творчества необходима иная шкала оценок. Впрочем, отрицать наследственность решительно не следует даже вопреки английской пословице о детях гениев, которые «отдыхают» на успехах своих отцов.
Гении с нулевой наследственностью. К ним ученый относит Данте, Шекспира, Сервантеса, включим в этот необычный ряд Т. Шевченко, И. Франко. Вывод: все без исключения гении не имели в своем роду равных им по способностям.
Возрастные ступени гениальности. М. Арнаудов присоединяется к той группе исследователей сверходаренных творцов, доказывающих, что зачастую свой потенциал они раскрывают в зрелом возрасте.
Раса и культура как феномен гениальности. М. Арнаудов приводит две теории, согласно которым народы делятся на благородные, прогрессивные расы, другие — приземленные, неспособные к духовному творчеству. Ученый отвергает теорию «чистой» расы, в которой якобы и появляются гении. Он разделяет идею смешанных расовых групп, где создаются условия «в течение известного периода созреть для своей великой миссии» (с. 35 — 36). Отметим, что сомнительная теория ассимиляции, теория смешанных рас вдруг может подтвердиться опять — таки на случайных примерах, которые якобы дали положительные результаты — немецкая кровь (Фонвизин), татарская (Карамзин, Тургенев, Куприн), турецкая (Жуковский), эфиопская (Пушкин), украинская (Нарежный, Гоголь, Лев Толстой — черниговский, В. Маяковский), шотландская (Лермонтов), польско — литовская (Достоевский), мордовская (Есенин). Настоящий вздор! После такого перечисления литературоведов надо направлять в селекционные лаборатории и колбы, чтобы изучить метод планирования и «выращивания» гениев.
Гениальность как результат невроза и деградации личности. Согласно исследованиям многих ученых гений становится продуктом духовной или физической драмы. Эту идею разрабатывали Гердер, Моро, Ломброзо, Шопенгауэр, А. Один, Тибоде, Низбет, Э. Кремчер, В. Штекель. К гениальным «выродкам» причисляли Маньяна, болели эпилепсией Петрарка, Мольер, Флобер, меланхолией — Руссо, Шатобриан, Ж. Санд, мегаломанией — Данте, Бальзак, припадками сомнения — Манцони, Ренар, слабостью к спиртным — Гофман, Э. По, галлюцинациями — Байрон (с. 39). «Больные» гении начинают искать исцеления в творчестве, освобождаясь от терзающих их страданий. Эту версию М. Арнаудов не принимает. Для него наиболее перспективным является суждение о силе и сверхздоровье гениев.
Высказывание Э. Г. Бабаева о гениальности. Этот литературовед поставил вопрос о влияние одного гения на развитие всей национальной культуры (см. кн.: Из истории русского романа XIX в. — М.: МГУ, 1984. — С. 252 — 269). Э. Бабаев ссылается на схему Л. Н. Толстого, которая структурно изображает процесс развития литературы XIX в.
Его достоинством является наглядность того, как пять вершинных авторов смогли создать литературный процесс первой половины XIX в. Отечественные писатели являются новаторами в том смысле, что смогли продуктивно использовать западноевропейскую художественную культуру, трансформируя ее в собственно национальную среду. Исключением в этом графике стоит Гоголь, вскормленный молоком и медом украинского барокко.
Отразим здесь эту художественную параболу:
Из этого чертежа выпадает так называемая «древнерусская литература». Л. Толстой прав, поскольку эстетический потенциал этой «древней» культуры был ничтожно мал. Новая культура, литература, гувернерство шли из Франции и других стран Западной Европы. Они дали огромные плоды. Именно поэтому данный процесс замалчивается или пародируется, чтобы не утратить своего величия. Писатель предлагает изучать историю развития литературы на примерах сверходаренных личностях, заявивших о себе в определенную эпоху. Непознанной остается глубина падения художественности во времена «изучения народа». Относительно «будущего», то оно всегда великое, но появятся там гении, неизвестно.
Снятие ложной гениальности, или Как тенденциозные ученые «инкубируют» лжегениев. На материале литературы 20 — х годов XX века П. В. Палиевский выделил две модели надуманного критиками «выращивания» знаменитостей.
I. Гений — самозванец, он же гений без гениальности. Этот тип писателей наделен «полнейшим нежеланием считаться» с традициями. Кандидат в гении сам продумывает сценарий очередных «скандалов», а затем заявляет, «что это он только так, по молодости, шутил, а теперь хочет быть серьезным» (Палиевский П.В.
Литература
и теория. — М.: Современник, 1978. — С. 168). Самозванец типа Хлебникова или «московского озорного гуляки» спекулирует своим неистовством, но этот прием утратил свое «ошарашивающее» впечатление (с. 172). Впрочем, сомнительный прием все — таки срабатывал, давая положительные результаты стадионным и площадным поэтам в 60 — е годы XX века. Здесь скандал прокладывает дорогу к известности.
II. Гения создают критики, которые используют низменные и выверенные приманки, на которые реагирует «чернь».
- — Забегание вперед, или Открытие новых литературных форм и тем кандидатом в гении. Этот прием первоначально «действовал неотразимо» (с. 173). Дескать, до этого писателя никто не создавал необычные художественные формы и жанры. В дальнейшем критики освободились от таких легковесных уловок.
- — Метод «присоединения» имени кандидата в гении к именам истинно великих писателей. В данном случае критик мыслит перечислительными рядами; догматическое литературоведение обозначало этот способ «приемом обоймы». Например, называются великие гении, уровня Данте, Сервантеса, Шекспира, Бальзака и рядом… Фалалеев; или: «Художественный мир Бехера отличен от шекспировского, в нем…». Как видим, среднего уровня способностей Бехер вдруг противопоставляется самому Шекспиру. Против приема «присоединения» имен и перечислительных рядов решительно выступили западные литературоведы и писатели XX века. Отечественные филологи пока еще эксплуатируют эту приманку.
- — Использование сенсационной публицистической фигуры: «Этого автора признает весь мир!». И нет возможности опровергнуть такой пассаж. Данный прием пока еще действует на молодого и неискушенного исследователя.
- — Надевают корону гениальности на писателей в связи с тем, что они были «гонимые» властью (с. 177). Аналогичную схему используют писатели (В. Дудинцев, А. Солженицын) в качестве масок для своих персонажей.
С нашей стороны можно предложить еще один тест на предмет выявления гениального писателя. Условно назовем его как «автор — не автор». Этот оценивающий прием использовался еще в античные времена, и он определенно сближается с проблемой «плагиаторства». Распространялся, например, слух, что драматургу Публию Теренцию помогали писать Лелий и Спицион. И что любопытно, сам драматург содействовал такой молве (Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. — М.: Правда, 1988. — С. 308). В истории литературы наиболее известными были: Гомер — не — Гомер, Шекспир — не — Шекспир, Мольер — не — Мольер, Шолохов — не — Шолохов…
В процессе исследования проблемы, связанной с гениями литературы, периодически возникают почти необъяснимые парадоксы. Чаще всего такого рода непонимания завязываются вокруг творчества Пушкина. На родине его безудержно величают, в Москве выплавляют поштучные больших размеров памятники и распространяют их по планете (Индия, Италия…), чтобы к нему не заросла народная тропа, однако за пределами великой страны его имя и творчество недостаточно известно даже специалистам. И это справедливо огорчает патриотов, которые во всем обвиняют плохих переводчиков. Так, канадский пушкинист Дж. Д. Клейтон сетовал, что западному читателю непривычно видеть в Пушкине величайшего писателя, и в узких писательских кругах его никто не ставит на один уровень с Толстым или Гоголем (Clayton J.D. «Ice and flame»: A. Pushkin’s «Evgene Onegin». — Toronto ets: Univo of Toronto press, 1985. — P. 4). Вместе с тем на родине он пользуется ни с кем несравнимой славой.
Такого рода противоречия объясняются наличием двух типов сверходаренных личностей, оказавших влияние на художественный процесс.
Первый — гении исключительно национальной литературы. Их художественные открытия не выходят за пределы своей страны, однако именно они определили магистральную линию и продолжают благотворно влиять на родную культуру и литературу. И как бы искусственно не расширяли их международный диапазон, они не смогут войти в когорту мировых гениев. К национальным гениям относятся Ш. Руставели, Алишер Навои, А. Пушкин, Т. Шевченко, А. Мицкевич, древнегреческие драматурги и лауреаты Нобелевской премии.
Второй тип гениев отличается тем, что они внесли вклад в мировую литературу больше, нежели в собственную, национальную. Это Гомер, Данте, Сервантес, Шекспир, Бабур, Бальзак, семь гениев иранского Ренессанса (Рудаки, Фирдоуси, Саади, Дехлеви, Руми, Хафиз, Джами), о которых Гете сказал: «Говорят, что персы из всех своих поэтов, за пять столетий, признали достойных только семерых; - а ведь и среди прочих, забракованных ими, многие будут почище меня».
ТАЛАНТ
Талант (гр. — денежная единица) — первоначально это слово обозначало денежную единицу, которая была распространена в античном мире. Позже номинация «талант» становится оценочным показателем личности, размером ее творческой одаренности. В словарях делается упор на выдающиеся врожденные качества. Но тогда чем же отличается талант от гения?
В отношении гениальности, то здесь нет возможности определить закономерность, которая могла бы позволить создавать их, хотя М. Арнаудов и отдельные литературные герои считали, что гении, завершители человеческого духа, появляются не случайно, непременно тут имеется некое правило, закон (Оноре де Бальзак).
Талант, согласно учению Гегеля, отличается от гения особой формой, которая направлена на узкий вид искусства и добиться успехов талантливый автор может только за счет упорного труда. Перелагая мысль Гегеля на родной язык, Д. Н. Овсянико — Куликовский писал: «Талант — это нечто специальное: нельзя быть вообще талантливым, а только можно иметь определенный талант в данной области, причем, как известно, всегда специализируются согласно способностям писателя».
Кроме природного дара и усиленного труда талант связан, как и гений, с болезненным фактором или намеком на него. Французские писатели, братья Гонкур, дали оценку собственного дара: «Да, это правда, в нашем таланте есть болезненность, и она имеет большое значение. Но эта болезненность, которая сейчас не нравится и раздражает, когда — нибудь будет считаться источником нашего обаяния и нашей силы. Болезнь обостряет способность человека наблюдать, и он уподобляется фотографической пластинке» (Гонкур Эдмон и Жюль. Дневник в двух томах. Т. I. — М.: ГИХЛ, 1964. — С. 494).
Аналогичные признания звучат из уст других писателей, в том числе и Леси Украинки. В письме матери из Ялты (1898) она признавалась: «Если у меня и в самом деле есть талант, то он не погибнет, — это не талант, который погибнет от туберкулеза и истерии! Пусть и мешают мне эти болезни, но зато, кто знает, не куют ли они мне такое оружие, какого нет у других, здоровых людей» (Украинка Леся. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 4. — М.: ГИХЛ, 1957. — С. 299). Может быть, это не болезнь, а пока еще неизученная форма творческой энергии?
Для казанского литературоведа Л. Юдкевича талант соотносится с явлением природного дарования, способностью представлять и изображать жизнь. Талант требует достойных условий для своего развития (Гуляев А.А., Богданов А. А., Юдкевич Л. Г. Теория литературы в связи с проблемами эстетики. — М.: ВШ, 1970. — С. 154 — 170). Неуместно прозвучало назидание Л. Юдкевича: талант должен быть нравственен, его необходимо постоянно и осторожно поддерживать, поскольку он редкость и его нельзя применять во зло.
БЕСТАЛАННЫЕ ПИСАТЕЛИ
Писатели с заурядными способностями. Жан — Батист Дюбо посвятил VI главу своей книги «Критические размышления о поэзии и живописи» ординарным творцам, обозначив их роль в искусстве: «Есть люди, призванные служить исключительно одному делу, другие же способны овладеть различными профессиями, однако их успехи в этих профессиях бывают посредственными. Природа производит их на свет в случае нехватки гениев, способных творить чудеса в своей области, но вне ее совершенно беспомощных» (с. 302). Бесталанный автор «обычно избирает для себя в качестве образца какого — нибудь Автора, мыслями и выражениями которого он обрамляет свою память и питает свое творчество». Им не под силу самим усмотреть в природе то, что достойно быть воспроизведенным. Заимствуя чужие мысли и выражения, заурядный писатель рано достигает творческой высоты, после которой совсем перестает расти и развиваться (с. 305).
ЭПИГОН
Эпигон (гр. — рожденный после) — последователь какого — либо художественного направления, течения, лишенный творческой оригинальности, механически повторяющий отжившие идеи и методы своих предшественников.
В эпоху Ренессанса заявляли о себе в массовом порядке эпигоны Ф. Петрарки — сонетиста. В истории западноевропейской литературы их называли петраркистами. Для писателей Петербурга и Москвы массовым эпигонством был восемнадцатый век, в котором переплавлялись в сжатое время все западные литературные жанры и направления. В XIX веке наблюдалось эпигонство, связанное с подражанием «Крымским сонетам» Адама Мицкевича. Вступали в литературу как эпигоны, и в этом нет ничего постыдного, Гоголь и автор «Полтавы». Опыт и мастерство придут к ним очень скоро. В XXI веке московские и петербургские кинопроизводители подробно воспроизводят сюжеты американских фильмов и уже перенесли и озвучили все ключевые фразы американских сценаристов, — при этом опять — таки ругают американских учителей. Как видим, национальная традиция ложной гордыни сохраняется.
ГРАФОМАН
Графоман (гр. — пишу; мания — безумие, страсть, влечение) отличается нездоровым влечением к писанию, к многословному и бесполезному сочинительству. Среди множества легковесных произведений у графоманов встречаются иногда и литературные шедевры. Обычно опусы графоманов тут же забываются. Так, в украинской литературе можно причислить к графоманским опусам многостраничные романы Марко Вовчок (Мария Виленская — Маркович, 1833 — 1907), созданных на московском наречии, хотя повести, написанные на украинском языке, несомненно, являются шедеврами.
Графоманскими считаются произведения о соцреалистических передовиках производства и прогрессивных дипломатах Луи Арагона, Д. Олдриджа, П. Павленко…
ПЛАГИАТ И ПЛАГИАТОРСТВО: РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОСУЖДЕНИЕ
Оправдываются заимствования отдельных мыслей, эпизодов, цитат; осуждается присвоение чужих произведений Великий Гете намекнул на парадоксальную мысль: первым плагиатором был и остается… ребенок!
Плагиат (лат. — похищенный) обозначает лицо, самовольно присвоившее чей — либо результат интеллектуального труда. Взяв в свою собственность чужое произведение или изобретение, он разрушает значимость оригинала. Латинское слово «плагиатор» в своей исходной позиции указывало на презренную акцию похитителя ребенка или раба. Жертвами «воров в литературе» в равной мере могут быть давно ушедшие авторы и современники.
Французский ученый Жан — Батист Дюбо в «Критических размышлениях» (VIII глава «О плагиаторстве») обозначил размеры такого рода усвоения не своих мыслей и сочинений: «Плагиатором именуется тот, кто выдает чужое произведение за свое собственное, кто преподносит как созданные им самим целые стихи, заимствованные из чужих поэм без всякого труда и без всякого на то основания» (с. 312). Показательно, что Дюбо не причисляет к плагиаторам переводчиков, которые чужие произведения превращают в собственность другой страны, поскольку здесь сохраняется авторство текста.
В современном значении понятие «плагиат» начинает употребляться в XVII веке, когда в странах Западной Европы стал активно работать закон об авторских правах на интеллектуальную собственность. Как видим, прямой смысл термина — вор ребенка или раба — переместился в сферу духовной деятельности человека.
Используем классификацию литературного плагиаторства, составленную Еленой Клепиковой (см.: Клепикова Елена. Плагиат: преступление без наказания // ИЛ. — 1990, № 9. — С. 196 — 202), и вычленим из «обвинительного» материала две его разновидности: а) плагиаторство, достойно оправдания; б) плагиаторство, заслуживающее осуждения.
Позволительное заимствование
I. Рукописная литература, до появления печатного станка (XV в.), нуждалась в плагиате, который выполнял функции тиражирования художественной, научной, исторической продукции.
II. Позволяется «одалживать» у других авторов отдельные строчки, эпизоды, целые страницы без ссылок на первоисточники. Когда современники Гете упрекали его в плагиаторстве, гений германской литературы объяснял им, что он «свободно черпал» (любимое изречение Гете) все лучшее из золотого фонда мировой художественной культуры. Поэт обосновывал свой метод «свободного черпания» следующими аргументами: «Мой Мефистофель поет песню, взятую у Шекспира, — и почему бы ему этого не делать? Почему мне нужно было бы мучиться и выдумывать свою, когда шекспировская как раз подходит и говорит именно то, что нужно». Гете несомненно прав, когда полемизировал со своими оппонентами на предмет сомнительной самобытности произведений любого художника: «Много говорят об оригинальности, но что это значит? Как только мы рождаемся, мир начинает влиять на нас, и так до конца нашей жизни. Что же мы можем назвать своим собственным, кроме энергии, силы, желания? Если бы я мог указать все то, чем я обязан великим предшественникам и современникам, то по исключении всего этого у меня осталось бы очень немного».
Как видим, этот пункт о заимствовании дискуссионен. Однако в пользу Гете действует закон литературного цитирования, творческих перекличек, диалогов и странных сближений. Убеждает в правоте великого Гете и роман «Улисс» Джеймса Джойса, о котором ирландский писатель говорил, что исследователи «романа века» до скончания дней своих не смогут разгадать тайну текста и его систему цитирования. Впрочем, Д. Лихачев постоянно и настойчиво призывал и вдохновлял своих соплеменников на аналогичную «форму воровства». Одну из своих работ он демонстративно обозначил — «Чужое как свое». И это справедливо и существенно. Так, в одной из басен И. Крылова читаем: «Осел был самых честных правил», что указывает на первую строфу «Евгения Онегина» («Мой дядя самых честных правил…»). Заимствованная фраза в романе заиграла новыми красками, обрела смысловую полифонию намека, самоиронии, полемики. Приведенный пример можно понимать и как факт того, что крыловскую строчку перенял не поэт, а его герой, которому не откажешь в эрудиции. Как видим, здесь сработал эффект «скрытой цитаты».
III. Уместно вспомнить концепцию Аристотеля, получившую название «мимесис» (подражание). Человек наделен имитационными качествами, а писатель, по определению Нобелевского лауреата США Сол Беллоу, есть «читатель, пустившийся в подражание» произведениям других авторов.
IV. Реабилитация научной и художественной ценности плагиата — не — плагиата. Под эту сомнительную рубрику попадают работы писателей и литературоведов, выполненных добротно, качественно, профессионально. Между тем исполнитель труда утратил право на рукопись, он продал свое сочинение и свое авторство другому владельцу. В бывшем Союзе на коммерческий поток было поставлено дело написания диссертационных исследований и монографий, о чем неоднократно информировали «Бюллетени ВАКа». Научные эксперты занимались выяснением вопроса: кто написал работу, которая теперь украшена именем неавтора — автора. Рассматриваемые научные исследования или художественные произведения не принадлежат к плагиату, их «не украли», они куплены. Здесь сработал пресловутый закон «товар — деньги — известность». Такого рода явления в значительной мере связаны с этической стороной, нежели правовой. И в XXI веке в Москве, согласно интернетной информации, расцветают корпоративные институты «интеллектуальных рабов», которые позволяют великим и богатым людям становиться великими классиками великой литературы.
V. Достойны оправдания вечные литературные темы, мотивы, образы, бродячие сюжеты, к которым веками обращаются многие писатели. Прометеевская, донжуанская, любовная и другие мотивные темы не имеют ничего общего с литературным воровством, хотя каждая вечная версия отталкивается от своей праосновы. Здесь наберется много заимствований в творчестве петербургских писателей XVIII — XIX веков: В. А. Жуковский и его «Сонет» (1806) из Лопе де Вега; «Суровый Дант не презирал сонета…» позаимствован у английского поэта У. Вордсворта; «Памятник» из Горация и Державина; «Сосна — Пальма» из Гейне… Это версификации, но не плагиат, такие опыты близко находятся «к чужому, как к своему» и отличаются самобытностью. В этот ряд надо поставить «Задонщину» и фальсификации киевских летописей, в которых подменялось слово «Украина» на провинциальное (киевское) обозначение «Русь» (см.: Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его времени. — М.: Наука, 1971. — С. 158, 283).
VI. Благодаря плагиатору совершенствуется чужой оригинал и реанимируется имя позабытого (обворованного) писателя. Эта концепция была поставлена и продемонстрирована на примере романа «Дикий овес» (1987) Джекоба Эпштейна (США). Его произведение напоминало роман Мартина Эмиса «Письма Рейчл» (1974). Парадоксально, что творения Д. Эпштейна, вопреки его художественной скромности, получило одобрение критики, а М. Эмис остался в тени. Согласно предложенной версии об «улучшении» заимствованных сюжетов, выходит, что и У. Шекспир сумел усовершенствовать оригиналы «Отелло», «Гамлета», «Ромео и Джульетты», легковесные сюжеты которых были созданы такими авторами, как Саксон Грамматик и его хроника «Амлет»; Джиральди Чинтино «Венецианский мавр»; Бенделло «Ромео и Джульетта»… Способ совершенствования чужого оригинала не имеет отношения к плагиату, здесь речь идет о влиянии первоисточника, без его упоминания. Устанавливать меру «перенятого» обязаны эксперты.